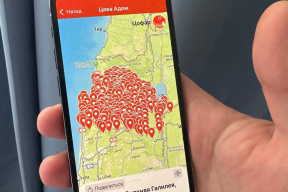Юлия Чернявская: «Милиционер начал материться, оскорблять несчастных стариков по этническому признаку, тащить меня куда-то...»
Из чего родилась легенда о сыне Владимира Короткевича? Как история ограбления в лифте превратилась в сюжет для пьесы? Почему один из самых известных в медиабизнесе людей Юрий Зиссер не уехал в эмиграцию в США? Об этом в эксклюзивном интервью рассказывает драматург, прозаик, культуролог и супруга известного бизнесмена Юлия Чернявская.

— Знаю, что ваше детство прошло в легендарном доме на Карла Маркса, 36, который расположен напротив Купаловского театра...
— Этот дом — самое безопасное и гармоничное место, которое я знала в своей жизни. В нем было три подъезда. Наш считался практически полностью “литературным”, а в двух соседних жили не только писатели, но и люди самых разных профессий. Например, женщина-врач, которая дома бесплатно принимала и лечила своих соседей.
В нашем доме жили Владимир Короткевич, Вячеслав Адамчик, Иван Науменко, Янка Брыль, Нил Гилевич, Янка Мавр, Янка Скрыган, семьи Глебки и Климковича, мой дедушка Василь Витка с семьей. Жили Шамякины, но переехали, когда я была еще совсем маленькой.
Наверное, мы, дети, единственные в Минске от рождения были билингвами. Писатели разговаривали по-белорусски, а вот практически все их жены — по-русски. По-белорусски — только Нина Ивановна Гилевич. А тетя Ядя Науменко — на живой, очень сочной, яркой трасянке. Вообще, в детстве мы всех звали “дядя” и “тетя” и так же воспринимали.
Наверное, лет до девяти я не понимала, что общаюсь с разными людьми на разных языках. Правда, когда подходила к телефону и слышала “Добра здароўя!” (так говорил мой дедушка и его друзья, теперь, кажется, так уже ни к кому не обращаются), я отвечала как-то иначе, чем если бы слышала «Здравствуйте!». А когда переехала с родителями в Серебрянку (к бабушке и дедушке попадала только на выходных и каникулах), там уже разговаривали на трасянке и русском.
Около дома на Маркса, 36 была единственная скамейка, на которой иногда сидели писательские жены: обсуждали все – от воспитания до политики. А вот их мужей я там не видела. Создавалось впечатление, что они слегка витают где-то там, в своих писательских мыслях.
А вот где собирались все жильцы дома, так это на субботниках. Само собой разумелось, что надо побелить деревья, подрезать ветки, посадить у забора мальвы, разбить клумбу и обложить ее кирпичом.
— Одним из самых известных жильцов дома являлся Владимир Короткевич.
— Соседи у нас были замечательные, но, если говорить о широте души, ею, на моей памяти, больше всего отличались жена Науменко и Владимир Семенович Короткевич. Он был необыкновенно добрый человек. Помню, как останавливал меня и расспрашивал, понравилась ли мне экранизация “Дикой охоты короля Стаха” (самому ему не нравилась) или “Черный замок Ольшанский”, только что напечатанный в “Маладосці”. Кто я была тогда? Девчонка, школьница. Но ему было свойственно уважение к читателю, не массовому, а конкретному. Сейчас это редкое явление.
Он был очень преданный сын. Наверное, некоторые знают историю об обычных стульях, канцелярских, с дермантиновыми сиденьями. Они стояли в каждом пролете, чтобы его мама могла отдохнуть, пока поднималась на пятый этаж. Потом кто-то украл стулья, тогда Короткевич поставил новые и прикрутил их проволокой. Они стояли там долго: и после смерти его мамы, и после его собственной смерти.
Чувствовалось, что ему немного тесно — нет, не в доме, а в этом мире, что ему надо было чего-то большее, какой-то более крупный контекст: не то, что тогда называлось “литературой народов СССР”, национальной по форме, социалистической по содержанию. Может быть, конечно, это ощущение было от прочитанных книг Короткевича... А соседки очень жалели их с женой из-за бездетности. Хотя я слышала, что у него есть сын.
— Мне всегда казалось, что это легенда!
— Дедушка рассказывал: как-то зашел Короткевич, попросил рюмочку. Он не был у нас частым гостем, дед вообще был замкнутым человеком, но, видимо, в тот день Короткевичу было очень уж тоскливо. Дома у нас практически не пили, но у деда в шкафу всегда стояли херес и хороший коньяк. Владимир Семенович выпил и сказал: “Знаете, Тимофей Васильевич, а ведь у меня на этой же улице сын живет...”
Я верю в это: деду всегда были отвратительны сплетни, сказал он об этом только мне — и уже много позже смерти Владимира Семеновича.
— В своих повестях и романах Короткевич опирался на исторические факты, но всегда много фантазировал. Любопытно, а в ваших произведениях в какой степени правда преобладает над вымыслом?
— Они переплетены “пятьдесят на пятьдесят”. Но есть и элементы чистой правды.
У меня, например, есть пьеса “Буковки”, которая идет в Могилевском облдрамтеатре под названием “Одноклассники”. Главный герой, аутист Митя, списан с моего брата по отцу. Тима моложе меня на 20 лет, и тяготы аутиста и его семьи я знаю не понаслышке.
Общество, то есть конкретные люди, их группы, еще что-то пытаются сделать для аутистов, государство — практически ничего, как будто их и нет. Здесь исток трагедии: единственные, кто заботится об аутистах, — их родители. Когда они уходят из жизни, аутистов (часто уже взрослых) отправляют в интернат. Для них, людей привычки, распорядка, абсолютно незыблемого мира, это полный слом жизни. Причем интернаты эти чаще даже не в Минске, а в другом городе, потому что все столичные переполнены. Но они и там остаются “белыми воронами”: чтобы контактировать с аутистами, надо учиться этому всю жизнь, а у сотрудников интернатов нет на это ни времени, ни, наверное, нужных знаний. Знаний об аутизме вообще мало.
— А Тима может работать?
— Нет, у нас это невозможно. На Западе аутисты могут работать, быть конвейерными рабочими, программистами, прекрасными диспетчерами. Есть аутисты-профессора, например, знаменитая Темпл Грандин. Но там система социальной адаптации начинается с детства, а потом продолжается всю жизнь.
Сын моих друзей, которые живут в Америке, — аутист. Но он имеет воинское офицерское звание и служит на флагмане Тихоокеанского флота. А Тиме не дали даже доучиться в школе. В Беларуси совсем недавно открыли единственный (!) класс для таких детей.
Однажды я спросила мачеху, почему она не отпускает сына одного передвигаться по Минску: ведь он прекрасно ориентируется в городе. “А ты представляешь, чего он наслушается от наших “добрых” людей?” — спросила она.
— В “Лифте”, другой вашей пьесе, герой нападает в лифте на женщину, требуя у нее денег.
— В “Лифте” коллизия совершенно истинная. Придумана только общая фабула: героиню оставляет муж, уходит к ее же студентке. Этого в моей жизни, к счастью, не было. Я просто насмотрелась на современное поветрие, когда мужчины оставляют “старых” жен и уходят к молоденьким. Раньше это было свойственно лишь богеме, остальные как-то “держались”, и если уж разводились, то вторые жены были, как правило, ровесницами. Теперь в силу множества причин уходы к юным девушкам стали повсеместными.
А вот история в лифте — совершенно не вымышленная. Мой реальный диалог с 18-летним Пашей из Осиповичей в первой картине пьесы воспроизведен практически дословно. Мы вошли в лифт, доехали до третьего этажа. Он нажал кнопку, остановил лифт, вытащил нож, прижал его к моему боку и сказал: “Ограбление”.
Я знала, что мальчик Паша не хочет меня убивать. И при этом остро чувствовала: при определенном повороте событий — может. Например, если мне по мобильнику позвонит дочь или кто-то будет стучать по двери лифта. Тогда он меня пырнет просто из страха.
Мне было его даже жаль. Я смотрела на него и думала: дурачок ты, дурачок. Потом выяснилось: Паша приезжал к нашему дому неделю подряд и за это время ограбил пять человек. Неудивительно, что его быстро поймали. А в пьесе мне хотелось реконструировать как-то его жизнь, ход его мыслей, понять, отчего он оказался в этом лифте, зачем взял в руки нож.
Кстати, когда я отдала ему деньги, то сказала: “А теперь вези меня на девятый этаж, с сумками я пешком подниматься не буду”. И он дисциплинированно повез. Удивительно, но в дурацких ситуациях я становлюсь очень смелой. Потом приходит страх, конечно. Но это потом.
— Ходит легенда, что однажды вы помогли Валерии Новодворской...
— “Помогла” — это сильно сказано. Попыталась — да, на чисто эмоциональном порыве. В Москве, то ли в 1989-м, то ли в 1990 году.
Тогда советская столица ввела карточки только для москвичей, перестав продавать товары провинции. А провинция ей мгновенно отомстила: перестала поставлять в Москву продукты. Потому в Москве было холодно, голодно и невесело.
Помню палатки около Кремля, люди жили в них, надеясь добиться от государства справедливости... Запомнила: в одной из них дружно жили армянин с азербайджанцем и чей-то из них маленький ребенок. И все это в холодном ноябре.
Словом, тяжелое было время. Вместе с другом, журналистом Вадимом Казначеевым, мы шли по холодному вымершему городу около памятника Юрию Долгорукому. Вдруг видим: в милицейскую “газель” запихивают несколько женщин и пару подростков. Рядом стоит полная женщина, которую почему-то не трогают. Это была Новодворская, которую мы сначала не узнали.
В машине начинает урчать мотор — и тут она бросается к этой “газели”, ложится на бампер грудью, не давая ей уехать. Одна! Ну, мы тоже кинулись на эту “газель”, потому что на такое нельзя просто смотреть, как одна женщина пытается остановить людей с дубинками. И получили теми же дубинками по почкам. В общем, легко отделались: нас не “взяли”.
А предыстория оказалась такова: утром разогнали митинг Демократического союза, сперва забрали всех мужчин, к вечеру пришел черед женщин и подростков. А саму Новодворскую приказали не брать.
Но это ж Новодворская! В тот же вечер она своего добилась: пошла на Красную площадь и прилюдно разорвала портрет Ленина — и вот тут ее забрали. Такие люди всегда вызывали у меня смешанные чувства: ужас перед безумным, чисто революционным накалом и уважение перед искренностью и верностью своим идеалам.
— В советские времена вы были диссиденткой?
— Практически все мои знакомые были диссидентами — в прямом смысле: инакомыслящими. Но борцов среди них было мало. Я не участвовала в акциях, не подписывала обращений, не возила самиздат из-за границы, не печатала прокламации. Мы были наивные: казалось, как только люди узнают правду, например, о репрессиях, как только мы получим доступ к запрещенной литературе — мы автоматически станем сторонниками демократических ценностей.
Я не ниспровергала режим. Просто он вызывал у меня стойкую антипатию: слишком много вранья нам “вкручивали”.
— А что повлияло на такое отношение?
— Да многое. Открытые партсобрания. Запрет на писателей. Замалчивание репрессий. Дисциплинарный характер культуры и жизни как таковой. Бесконечные осанны партии.
Или хваленый интернационализм. Например, я до 18 лет не знала, что в Минске было гетто и есть памятник его жертвам. Там, где сейчас находится мемориал “Яма”, стоял (и стоит до сих пор) маленький обелиск погибшим евреям. Узнала я о нем от друзей, кстати, не имеющих к евреям никакого отношения. В 1980-м или 1981 году пошла туда на 9 Мая. Там собралось много людей, не только евреев — белорусов тоже. Многие плакали, у некоторых там погибли семьи, некоторые сами пережили гетто.
А по периметру “Ямы” стояли милиционеры. Как только раввин стал читать молитву, и старики начали молиться, раскачиваясь, милиционеры включили громкоговорители и начали передавать бравурные песни 1970-х годов. Я подумала, что это какая-то ошибка, и пошла объясняться к милиционерам. Меня гнали от одного к другому, дошла наконец до главного, который начал материться, оскорблять этих несчастных стариков по этническому признаку, хватать меня за руку, тащить куда-то...
Неудивительно, что в нашей среде читали запретную литературу, слушали Галича. Некоторые, особо бдительные, боялись “прослушки” и ставили магнитофоны в ванной на табуретке. Представьте картинку: десяток людей сидит на полу возле открытой двери в “совмещенный санузел” и торжественно слушает...
Записи всегда были плохого качества, голоса практически не было слышно. Мой первый муж (я вышла замуж рано, в 19 лет) сидел рядом с бобинным магнитофоном и фактически “переводил”, о чем пел Галич.
— А почему, простите за нескромность, вы расстались с первым мужем?
— Так вышло. Мы и сейчас в теплых отношениях, нам никогда ничего не приходилось делить. Но после четырех лет совместной жизни стало понятно, что мы очень разные. Настолько, что уже забыли, как вместе проводить время. Он пропадал в альпинистских лагерях, я — в среде поэтов и бардов.
— Говорят, что именно благодаря бардовской песне вы познакомились с Юрием Зиссером.
— Да, на тот момент я писала песни и выступала с ними. И вот приехала во Львов к друзьям на Первое мая, кстати, это было сразу после Чернобыля, в 1986 году.
Тогда я была солидной замужней женщиной, хотя и приближающейся к разводу. Мне было аж 24 года. Поехали в лес компанией — пообщаться, попеть. Я в чужих тренировочных штанах, в чужой майке, совсем не романтический вид.
Первая адресованная мне фраза моего будущего мужа была: “Где ты научилась так петь?” Да никак я особо не пела, наверно, разве что искренность его подкупила.
Кстати, Юра там оказался случайно, заодно с другом: он был равнодушен к авторской песне, зато знал и любил джаз. И меня приучил.
А через неделю он приехал и нашел меня в Минске, не зная ни адреса, ни телефона (а ведь и интернета тогда не было): включил математическую логику, вычислив место моей работы, о которой я смутно обмолвилась во Львове. Через полтора месяца я ушла от мужа, еще через два месяца переехала во Львов. Спустя год вернулись в Минск вдвоем, вернее, уже почти втроем: ждали дочку.
— Вы в браке двадцать девятый год. Это большой срок...
— Да, мы давно вместе — благодаря одному замечательному качеству моего мужа. Он позволяет мне быть собой. И я позволяю ему быть собой. Делать то, что он считает нужным, вне зависимости от того, согласна я с этим или нет. И никогда не требую “отчетов”, как делают некоторые женщины. Придет домой и сам все расскажет.
— А сейчас не сможет рассказать! Я закончу интервью, и наши читатели ничего не узнают...
— Сейчас у него сессия. В 53 года он поступил в консерваторию. Специализация “Интерпретация старинной музыки” (орган). Эта была давняя мечта: в 40 лет он стал самостоятельно учиться играть на фортепиано. Причем не с гамм начал, а с Баха.
— В сознании читателей Юрий Зиссер прежде всего ассоциируется с порталом TUT.BY и многочисленными проектами в IT-сфере.
— Этот портал начинался с фирмы “Надежные программы”. Сперва она находилась у нас дома, в нашей первой собственной квартире в Заводском районе.
До того мы довольно долго и во Львове, и в Минске мыкались по съемным квартирам. Юра ездил на заработки в Лангепас, это Ханты-Мансийский автономный округ. Работал там вахтовым методом: три месяца там, потом здесь, потом опять три месяца там. Это тянулось пару лет. Ну, и родители подкинули свои сбережения. Так насобирали на “распашонку”, 42 квадратных метра.
— По тем временам это же роскошь!
— Да. Квартира стоила около 40 тысяч уже сильно потерявших в цене советских рублей. В этой квартире сперва и разместились “Надежные программы”.
Сначала в фирме было только три человека — Юра, бухгалтер и программист Дима. Несколько лет, пока не арендовали помещение, программист работал у нас дома. В комнате стояли мой школьный стол и табуретка, на столе компьютер — вот и весь интерьер. На квартиру хватило, на мебель уже нет. Я кормила Диму завтраком, обедом и ужином, а он рассказывал мне о своих бедах и радостях.
Даже когда “Надежные программы” отселились, и программистов стало больше, они постоянно забегали в гости, и некоторые охотно продолжили традицию исповедей за чаем. Потом фирма разрослась — и посиделки стали реже. Теперь иногда забегают отдельные люди.
— 1990-е теперь любят называть “лихими”. Думаю, восхождение вашей семьи тоже было непростым.
— Совсем недавно муж опубликовал “Советы банкротам”. Они написаны на собственном опыте.
Года с 1992-го у нас было относительное благополучие — на фоне наших соседей с улицы Васнецова. В те годы оно понималось так: это когда можешь купить не один, а два килограмма мяса, регулярно покупать фрукты ребенку, можешь в отпуск съездить в Крым или даже Болгарию в дешевый пансионат. У нас было такое благополучие, а в 1996-м оно рухнуло.
Это был полный крах. Муж бился как мог, и я — как могла. Работала в двух вузах, в одном на ставку, в другом на полторы, раз в неделю преподавала в школе и писала статьи для журнала “Здоровье и успех”, которые приносили мне в месяц столько же, сколько два вуза. А летом торговала косметикой Swiss Formula. Носила ее в сумках по фирмам. И страшно боялась, чтоб мои студенты меня не увидели в роли коробейника.
— Вы приводите пример того, как действует сильная женщина. Наверное, многие поступили бы иначе...
— А какой был выход? Время обязало нас быть сильными и взрослыми.
Мне вообще кажется: женщина уже рождается взрослой. Мужчины взрослеют позже. А вот что касается интеллектуального развития, то большинство мужчин начинают его раньше, но и раньше останавливаются. Поэтому мы встречаем такое количество интересных — мудрых и глубоких — старых женщин. Мне кажется, чаще, чем среди их ровесников-мужчин. Просто в культуре, науке, политике по известным обстоятельствам они менее заметны, зато куда более заметны в быту.
Ну и, конечно, потому, что смерть быстрее выкашивает мужчин. Тому есть не только физиологические, но и психологические причины. Например, установка “мальчики не плачут”. Она разрушает человеческую спонтанность, лишает права на яркое выражение чувств, формирует закрытого, закомплексованного человека, который всю жизнь чувствует себя самозванцем. Он должен быть сильным, но ведь он знает, что внутри он — другой.
Аналогичный грех воспитания: “Ты должна быть скромная, тихая, послушная, ведь ты же девочка”.
— Хотел бы спросить об ином. Вы позволяете себе каким-то образом влиять на работу портала?
— Нет. В той лишь степени, что и любая женщина, с которой муж советуется по поводу своей работы.
Во мне сидит несколько давнишних принципов — наверно, от мамы и круга ее подруг. Во-первых, женщина не должна садиться мужчине на голову — в том числе и в материальном плане. У меня “малобуржуазные” запросы. Нужен определенный комфорт, по теперешним представлениям небольшой. Счастлива, что не приходится считать копейки. Ведь я считала их большую часть своей жизни и не забыла об этом.
Еще я глубоко убеждена, что женщина не должна становиться известной просто как жена своего мужа. Быть “женой шефа” мне всегда претило. Поэтому я долго и сознательно дистанцировалась от TUT.BY, занимаясь своими делами: книгами, пьесами, статьями, диссертацией, преподаванием.
На портале я начала появляться, когда он существовал уже лет семь. Тогда коллеги Юры, из тех, кто бывал у нас дома, сказали: “Мы открываем видеонаправление, а вести передачи некому. Не согласились ли бы вы нам помочь?”
Так появилась передача “Без ответов”, которую я вела три года, потом другие циклы: “Круги на воде”, “Артефакт”, “Советская Атлантида”. При этом я никогда не прерывала ни преподавание, ни какие-то свои “писания”.
— А зачем вам преподавание в университете? Вы ведь обеспеченный человек...
— Во-первых, там я чувствую себя социально востребованной. Во-вторых, я люблю студентов. Я довольно редко хожу на светские мероприятия — я их не очень люблю. Лучше прочесть или прослушать интересную лекцию, чем побыть в тусовке.
— Но ведь у вас есть клуб GRAPHO. Это же литературная тусовка!
— Не совсем. Там люди не просто “тусят”, они заняты общим делом. Вообще, у GRAPHO долгая предыстория — и не только личная, а общекультурная.
В 1960-е годы существовал общий культурный проект, так называемое “шестидесятничество”. Люди вышли из квартир и попытались создавать “свою” страну. Из этого ничего не вышло, к 1970-м они перестали верить в этот большой утопический проект. Разошлись по домам и начали заниматься обустройством собственной жизни.
И вот тогда возник феномен “кругов”. Говоря фигурально, люди жили не в СССР, а в своих компаниях, где можно было жить, дружить и дышать.
Наше время в чем-то похоже на то. В 1990-е люди поняли, что большого социокультурного проекта они создать не могут, их предложения просто не будут услышаны. Поэтому все занялись своим бытом.
Когда я вышла в “Фейсбук” (сперва против желания, меня заставила там зарегистрироваться дочь), оказалось, огромное количество людей тоскуют по литературе, да и в целом — по культуре. И это люди совершенно разных возрастов, полов и профессий. Значит, идея литературного клуба востребована.
— А вы не боитесь, что в GRAPHO будут править бал графоманы?
— Совсем бездарных людей в GRAPHO не вижу. Конечно, кто-то может быть менее талантливым поэтом. Но, может, он талантливый слушатель? Может, он способен горячо обсуждать тексты? Может, он замечательный критик?
Как говорил мой друг Ким Хадеев, “графомания спасет мир. Люди будут писать вместо того, чтобы воевать”.
— А вы читали роман Владимира Некляева “Автомат с газировкой с сиропом и без”, посвященный Хадееву?
— Начала, но бросила. Именно поэтому. Не знаю, чем руководствовался уважаемый Владимир Прокофьевич, создавая свой образ Кима. Возможно, рассказами пристрастных людей. Таких во все времена было множество.
В интеллектуальном Минске не существовало ни одного человека, который был бы связан с литературой и театром и не бывал у Кима. Круг его общения состоял из людей разных поколений. Например, в первом поколении была моя родная тетя Наташа.
Я к “поколениям” не относилась, мы дружили отдельно, на моей “территории”, но людей этих знала. И ни от кого и никогда я не слышала, что Хадеев кого-то подставлял или на кого-то доносил. На него доносили — это было, и я даже знаю несколько имен доносчиков. Кстати, об одном Ким говорил: “Ну, его просто поставили в такие условия, он не мог не настучать” — и не порвал общения с этим человеком.
Вероятно, Некляев просто излишне доверился чьим-то воспоминаниям. Больше мне это объяснить нечем.
— Но Хадеев мог испортить жизнь?
— Мог. Как и каждый из нас. Больше — лишь потому, что личностью был огромной и влияние оказывал большее, чем обычный человек. Это было не злоумышленно, а вследствие некоторых его установок.
Например, он ошибочно считал, что каждый человек потенциально обладает его силой и умом. Потому раздавал завышенные авансы. Он мог сказать: “Бросай все. Я научу тебя писать, станешь большим писателем”. И человек бросал все, хотя учился себе, например, в политехническом институте — и прожил бы нормальную жизнь вне писательства. В молодости такие посулы могут опьянить, потому я рада, что подружилась с Кимом, будучи уже взрослым человеком.
— И последний вопрос. В одном из интервью вы рассказывали, как собирали деньги на новую квартиру. Но муж взял и вложил их в создание портала TUT.BY. Вы не осуждали его за этот поступок и риск?
— Во-первых, их заработал он, а не я. Значит, мог их потратить на то, на что считал нужным.
Во-вторых... Когда мы познакомились, его семья в полном составе собирались уезжать в США. И тут появилась я, которая категорически не хотела никуда ехать. В этом смысле я очень “тутэйшая”. Тогда Юра отказался уезжать, и его родители тоже остались во Львове.
Я много раз вспоминала об этом, когда спустя много лет его мама тяжело заболела. Вероятно, в Америке она прожила бы больше, и качество жизни у нее в те годы было бы другое. Никакая квартира (которую мы через семь лет все же купили) не сравнится с этой жертвой. Так что я обязана ему главным.
Оцените статью
1 2 3 4 5Читайте еще
Избранное