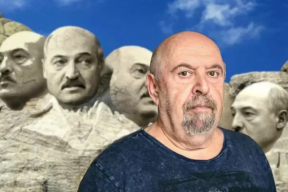Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
О страшном голоде в блокадном Ленинграде сказано много. В рамках проекта «СССР: как это было на самом деле» «Салідарнасць» рассказывает о том, как себя чувствовала в это время большевистская верхушка города.

Блокада Ленинграда – страшная и трагичная страница Второй Мировой. Велик подвиг жителей города, переживших голод, бомбежки и смерть близких. До сих пор неизвестна точная цифра погибших блокадников: по разным оценкам их количество варьируется от 600 тысяч до 1,5 миллионов человек.
***
Из интервью с Даниилом Граниным:
— Во время блокады без суда и следствия пускали в расход людоедов. Можно ли осуждать этих обезумевших от голода, утративших человеческий облик несчастных, которых язык не поворачивается назвать людьми, и насколько часты были случаи, когда за неимением другой пищи ели себе подобных?
— Голод, я вам скажу, сдерживающих преград лишает: исчезает мораль, уходят нравственные запреты. Голод — это невероятное чувство, не отпускающее ни на миг... Да, людоедство имело место...
— ...ели детей?
— Были и вещи похуже.
— Хм, а что может быть хуже?
— Даже не хочу говорить... (Пауза). Представьте, что одного собственного ребенка скармливали другому, а было и то, о чем мы так и не написали. Никто ничего не запрещал, но... Не могли мы...
— Был какой-то удивительный случай выживания в блокаду, потрясший вас до глубины души?
— Да, мать кормила детей своей кровью, надрезая себе вены.
***
То ли дело партийные деятели. Как всегда в СССР, эти люди жили на особых условиях.
Из дневника инструктора отдела кадров Ленинградского горкома партии Ленинграда Николая Рибковского:
«С питанием теперь особой нужды не чувствую. Утром завтрак – макароны, или лапша, или каша с маслом и два стакана сладкого чая. Днем обед – первое щи или суп, второе мясное каждый день. Вчера, например, я скушал на первое зеленые щи со сметаной, второе котлету с вермишелью, а сегодня на первое суп с вермишелью, на второе свинина с тушеной капустой. Качество обедов в столовой Смольного значительно лучше, чем в столовых в которых мне приходилось в период безделья и ожидания обедать... (9 декабря 1941 г.)»

И это в период страшнейшего продовольственного кризиса и резкого скачка смертности в Ленинграде! Суточная норма хлеба для рабочих тогда составляла 250 грамм, для остальных – 125 грамм. Как видим, партийная верхушка не включилась в тяготы и лишения блокады.
Цитируем блокадные дневники в то же время:
«Сидим на 125 г хлеба в день, в месяц мы получаем (каждый) примерно около 400 г крупы, немного конфет, масла. Едим 2 раза в день: утром и вечером. До последнего времени пекли лепешки и варили изредка каши из дуранды (отходы производства растительного масла), но теперь она кончается. Закупили около 5 кг столярного клея; варим из него желе (плитка на 1 раз) с лавр. листом и едим с горчицей.
…В городе заметно повысилась смертность: гробы (дощатые, как попало сколоченные) везут на саночках в очень большом количестве. Изредка можно встретить тело без гроба, закутанное в саван». (8 и 14 декабря 1941, школьник Миша Тихомиров; убит осколком снаряда 18 мая 1942).
«Знаешь, что с каждым днем твои силы иссякают, что ты изнемогаешь от недоедания день ото дня все больше и больше, и дорога к смерти, голодной смерти, идет параболой с обратного ее конца, что чем дальше, тем быстрее становится этот процесс медленного умирания… Вчера в очереди в столовой рассказывала одна гражданка, что у нас в доме уже пять человек умерло с голода…
Вырваться бы из этих чудовищных объятий смертельного голода, вырваться бы из-под вечного страха за свою жизнь, начать бы новую мирную жизнь где-нибудь в небольшой деревушке среди природы… забыть пережитые страдания… Вот она, моя мечта на сегодня» (10 декабря 1941, школьник Юра Рябинкин; скорее всего, умер от голода в начале 1942).

Пока тысячи детей умирали от голода, большевистская номенклатура думала только о себе. Оператор располагавшегося в Смольном центрального узла связи М. Х. Нейштадт вспоминал: «Один раз при мне, как и при других связистах, верхушка отмечала 7 ноября всю ночь напролёт. Были там и главком артиллерии Воронов, и расстрелянный впоследствии секретарь горкома Кузнецов. К ним в комнату мимо нас носили тарелки с бутербродами. Солдат никто не угощал».
А вот «обычный» день НКВДшника Федора Боброва во время блокады:
«Утром просмотр цехов. Вымылся под душем, побрился. Днём был обед с водкой. Вечером с икрой и осталось 500 р. Остальное время был у себя. Поехал к Наде, но не доехал». (7 ноября 1942).
Из дневника Николая Рибковского:
«Если в городе, среди населения, много желудочных заболеваний… водой пользуются прямо из Невы, подчас употребляют не прокипяченную как следует быть из-за недостатка топлива, в уборную ходят прямо в квартирах, потом где попало выливают и руки перед едой не моют. Некоторые моются редко, чумазыми, с наростом грязи на руках ходят... Встретишь такого человека, а встречаются такие часто, неприятно делается. Ни водопровод, ни канализация не работают вот уже три месяца...
А у нас в Смольном, отчего? Питание, можно сказать(!), удовлетворительное. Канализация и водопровод работают. Кипяченая вода не выводится. Возможности мыться и мыть руки перед едой имеются. В самом Смольном чисто, тепло, светло».
А вот что пишет блокадница Любовь Шапорина примерно в это же время:
«Я невероятно голодаю это время. Страдаю и не могу работать. Пришлось убедиться, что нельзя нарушать свой голодный режим временным улучшением.
Я меняла кое-что из тряпок Л. Н. на хлеб и масло, и, вероятно, с неделю у меня ежедневно были к вечеру лишние 200 или 250 гр. хлеба, да еще масло. И теперь, когда я вернулась к старому, мне уже 500 гр. не хватает. Их всегда не хватало, но сейчас это мучительно. Сильная слабость, и последнее время что-то неладно с сердцем. Вчера и сегодня я просидела дома, сегодня еще полежала часа два и чувствую себя лучше. Но голод — это и мучительно, и унизительно. Сегодня я дошла до воровства. Правда, оно выразилось в воровстве 5 или 10 грамм хлеба, но все же. Вот он — голод». (15 декабря 1942)

Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрей Жданов
Еще партийные работники создали для себя сеть санаториев и профилакториев. Пока «пролетарии» доедали собак и крыс, умирали от голода, холода и антисанитарии, начальники ни в чем себе не отказывали. Опять цитируем горкомовца Рибковского:
«Вот уже три дня как я в стационаре горкома партии. От вечернего мороза горят щеки... И вот с мороза, несколько усталый, с хмельком в голове от лесного аромата вваливаешься в дом, с теплыми, уютными комнатами, погружаешься в мягкое кресло, блаженно вытягиваешь ноги...
Питание здесь словно в мирное время в хорошем доме отдыха: разнообразное, вкусное, высококачественное, вкусное. Каждый день мясное — баранина, ветчина, кура, гусь, индюшка, колбаса; рыбное — лещ, салака, корюшка, и жареная, и отварная, и заливная. Икра, балык, сыр, пирожки, какао, кофе, чай, триста грамм белого и столько же черного хлеба на день, тридцать грамм сливочного масла и ко всему этому по пятьдесят грамм виноградного вина, хорошего портвейна к обеду и ужину. Питание заказываешь накануне по своему вкусу.
Я и еще двое товарищей получаем дополнительный завтрак, между завтраком и обедом: пару бутербродов или булочку и стакан сладкого чая. К услугам отдыхающих — книги, патефон, музыкальные инструменты — рояль, гитара, мандолина, балалайка, домино, биллиард... Но, вот чего не достает, так это радио и газет...
Отдых здесь великолепный – во всех отношениях. Война почти не чувствуется. О ней напоминает лишь далекое громыхание орудий, хотя от фронта всего несколько десятков километров.
Да. Такой отдых, в условиях фронта, длительной блокады города, возможен лишь у большевиков, лишь при Советской власти (звучит цинично, разве не так? — прим. автора статьи).
Что же еще лучше? Едим, пьем, гуляем, спим или просто бездельничаем слушая патефон, обмениваясь шутками, забавляясь «козелком» в домино или в карты... Одним словом отдыхаем!» (5 марта 1942).
Да уж, «пир во время чумы». Свидетельствует блокадница Татьяна Великотная:
«Еда сейчас занимает нас больше всего. Мы решили «поправляться» на столовой. Со мной, конечно, дело пойдет труднее — я уж типичный «дистрофик», — и если выживу до конца войны при таком питании, то это божье чудо, что доживу. Во сне вижу то хлебную прибавку, то совсем не получаю хлеба, то не попадаю в очередь и т. п. — все связано с едой. Сейчас, когда я пишу это в конторе, Катя стоит за маслом — 100 г на человека независимо от категории. Разве поправишься на таком пайке? Это только «побаловаться» 1–2 дня» (9 марта 1942).
«Я вчера читала целый день «14 декабря» Мережковского, предварительно разорвав книгу пополам, т. к. не в состоянии держать в руках такую тяжесть. Сегодня постараюсь кончить» (30 марта 1942. Через день Татьяна умрет от голода).
Блокадники вспоминают: ни один человек из партийной и горкомовской верхушки от голода не умер. Голодные люди караулили мусорные ведра около Горкома, чтобы доесть остатки несвежей еды, которую выкидывали объедавшиеся чиновники.

И напоследок история мальчика и его мамы из «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина:
«В апреле месяце (1942 года) я иду как-то мимо Елисеевского магазина и вижу — сидит мальчик, страшный, отечный скелетик. «Мама меня выгнала. Мама мне сказала, что она мне больше ни куска хлеба не даст». Мои дети к этому времени уже ходили в детский сад и еще держались. Он был так страшен, так жалок!
Я накормила его и пошла с ним на улицу Чехова. Входим. В комнате страшная грязь. Лежит эта дистрофировавшаяся, всклокоченная женщина. Увидев сына, она сразу закричала: «Игорь, я тебе не дам ни куска хлеба. Уходи вон!» В комнате смрад, грязь, темнота. Я говорю: «Что вы делаете?! Ведь осталось всего каких-нибудь три-четыре дня, — он пойдет в школу, поправится». — «Ничего! Вот вы стоите на ногах, а я не стою. Ничего ему не дам! Я лежу, я голодная…» Вот такое превращение из нежной матери в такого зверя! Но Игорь не ушел. Он остался у нее, а потом я узнала, что он умер.
Через несколько лет я встретила ее. Она была цветущей, уже здоровой. Она увидела меня, бросилась ко мне, закричала: «Что я наделала!» Я ей сказала: «Ну что же теперь говорить об этом!» — «Нет, я больше не могу. Все мысли о нем». Через некоторое время она покончила с собой».
Оцените статью
1 2 3 4 5Читайте еще
Избранное